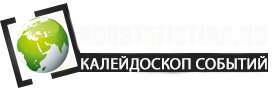«Утренний хор» Кати Исаевой. Фото автора В плане тематических аранжировок своего собрания Московский музей современного искусства задал планку – с 2009 года делал это систематически, подбирая ракурсы, собирая новые сюжеты-истории и показывая, что contemporary art – не нечто герметичное и непонятное, а процесс, живой тем, что это искусство открыто к диалогам со зрителем на самые разные темы. Попутно аранжировки выводили из тени роль куратора и часто – архитектора выставки. В нынешней экспозиции «Вещи и видения», 12-й по счету, кураторы Анна Арутюнян и Андрей Егоров возвращают фокус с концепций на сами работы как части авторских циклов и биографий или как единицы музейного хранения, как поэтические образы или как объекты реставрации.
Но этим кураторам просто подборка откомментированных достижений современного искусства, распластавшаяся по обеим анфиладам губинского особняка, была бы неинтересна. Все их проекты – срежиссированные истории, где сосуществуют несколько линий нарратива. Нынешний – не исключение. 14 разделов: «Лестница», «Пролог», «Космос», «Хранение», «Комната», «Сад», «Сон», «Город», «Природа», «Ковчег», «Реставрация», «Предел», «Дом» и «Музей», с одной стороны, собраны в духе феноменологической «Поэтики пространства» Башляра, с другой – выстроены виражами между частным и общественным, скрытым и видимым, чем-то, что грезится, и чем-то предельно конкретным. Вместе с тем одним из лейтмотивов текстов становятся размышления об искусственном интеллекте, который многое уже в жизни поменял, которому «возможно, несколько поспешно отводится роль беспристрастного эффективного арбитра множественных и несовершенных человеческих истин» и который все-таки не способен заменить художника-человека машиной.
Экспозиционный путь сопровождается поисками созидательного авангардного духа не только в пределах исторического авангарда (эти работы размещены преимущественно в коридоре между анфилад, сделавшись связующим звеном и еще одной осью), но вплоть до современности. Потому проводниками выбраны Малевич (с автопортретом и отсылками наших современников к супрематизму) и Хлебников, чьи слова практически «бегущей строкой» мерцают в каждом зале, иногда, как кажется, почти в унисон, иногда контрапунктом. В финальном «Музее» это «И понял вдруг: нет времени. / На крыльях поднят как орел, я видел сразу, что было и что будет…». В «Зангези» строчкам предшествуют «Мой разум, точный до одной энной, / Как уголь сердца я вложил в мертвого пророка вселенной». Авангардный импульс тут предложено расслышать и в работах, и в самом музее, объединяющем прошлое с будущим в самых разных комбинациях; недаром идея первого музея современного искусства родом из того самого авангарда.
«Сад» – одна из долгоиграющих метафор истории искусства, бытующая на границе видимого и мысленного. Сейчас это один из самых лиричных разделов, где среди колонн стая птичьих клеток отбрасывает кружево теней. Звучащий «Утренний хор» Кати Исаевой инспирирован традицией сайгонского парка Тао Дан: люди приносят домашних пернатых, чтобы те научились трелям вольных птиц. Только у Исаевой звучат архивные голоса исчезнувших видов, найденные в Корнельском университете. В конце концов, наверное, только художнику доступно сопряжение традиции с научным знанием и жизнестроительная утопия, основанная на утраченном. Хотя как раз утопия частично вышла провидческой: за годы существования инсталляции обнаружилось, что считавшийся вымершим голубой ара возвращается в дикую природу. Сад памяти, сад как созидание или как созерцание руинирования в этом зале показан портретом скульптора Аделаиды Пологовой. Высеченный в известняке Анатолием Комелиным, он оставляет соотношения природной и возделанной, преображенной формы на стороне первых. С другой стороны видишь «Старую радугу» Владимира Чернышева, хорошенько тронутые временем и погодами доски с как будто детским рисунком стареющей, ветшающей радуги, пусть это и кажется оксюмороном.
Выставочные разделы оказываются сродни методологическим кураторским экспериментам на тему того, как можно работать с современным искусством, как его показывать и о чем его можно спросить. Это могут быть очень конкретные музейные функции вроде хранения и одноименного зала, где волей случая соседствуют порой, казалось бы, противоположные вещи. Это может быть реставрация как процесс лечения, и иногда реконструкции авторского замысла или метода работы, и создания чего-то нового. А вот можно ли «реставрировать» пейзаж или тем более человеческую судьбу? «Портрет Мандельштама на старом перевернутом деревенском зеркале» у Хаима Сокола проступает нечеткими очертаниями, узнаваемыми скорее в силу того, что облик этот помнишь. Так можно ли реставрировать иными способами, нежели сохранить его речь навсегда? В этом же реставрационном разделе прижился один из пустынных «Незанятых пейзажей» Евгения Буравлева, способный (ли?) хранить воспоминания чьей-то жизни.
Понятно, что юбилейная выставка должна быть и о роли музея. Аранжировки коллекции отражают климат в искусстве. Институции современного искусства у нас почти перевелись, а экспонировать можно не всё и не всех. Когда объединенные тут авторы, очень разные, иногда оказываются соседями, это может вызвать недоумение, но и напоминает, что музей призван видеть культурное поле как часть целого процесса, со взлетами и падениями. Если что-то вынужденно уходит из поля видимости, в музейной памяти оно сохраняется. Ведь разглядывать разные смыслы в перспективе из прошлого в будущее всегда жизнеспособнее констатации чего-то одного. Хоть в видениях, хоть в видéниях.